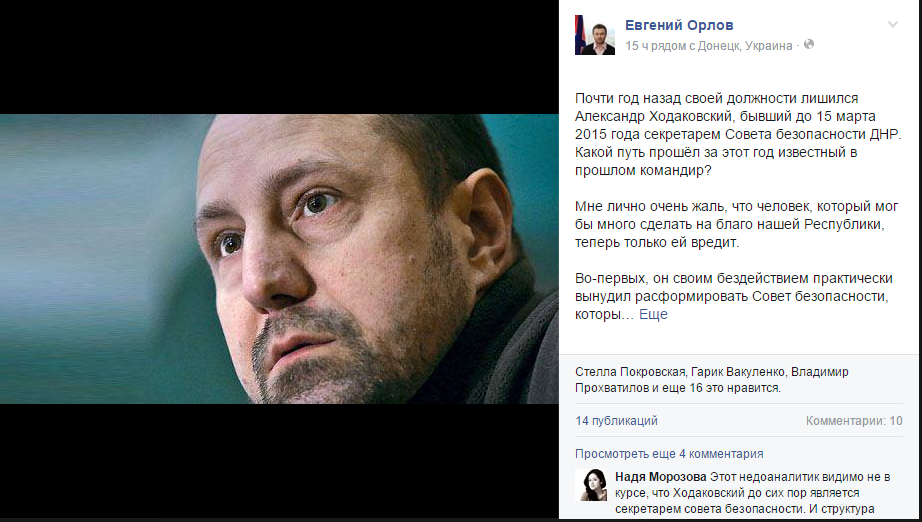Говорит лидер
Интересно
Закрыть
Забытые спасительницы Донбасса

Без этого преодоления, без восстановления экономики величие той громадной Победы было бы не совершенным, как и несовершенной, без возрождения Донбасса будет значимость нашей грядущей победы.
Об этом возрождении надо думать уже сейчас, а тогда о нем заговорили еще в феврале 1943 года. Государственный Комитет Обороны за шесть долгих месяцев до освобождения столицы Донбасса – города Донецка издал постановление «О восстановлении шахт Донбасса». Тогда никто и предположить не мог, что у возрождения нашего края будет женское лицо.
Голод угольный, кадровый, послевоенный…
Между тем немецко-фашистские оккупанты, хозяйничавшие на Донбассе с осени 1941 года делали все возможное, сначала чтобы запустить экономику региона и заставить ее работать на Германию, а потом чтобы уничтожать индустрию Донбасса, руководствуясь приказом Гиммлера направленным Высшему руководителю войск СС и полиции на Украине: «Генерал пехоты Штапф имеет особые указания относительно Донецкой области. Немедленно свяжитесь с ним. Я возлагаю на Вас задачу всеми силами содействовать ему. Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну…»
И оккупанты старались, делали все для того, чтобы в индустриальном смысле наш край был уничтожен, и соответственно никак не мог влиять на исход войны. Они в этом преуспели. В качестве примера можно, вспомнить, как выглядел Донецк после его освобождения 8 сентября 1943 года.
По словам ветерана Великой Отечественной, командира ПТР, освобождавшего город (автору этих строк с ним удалось пообщаться), Александра Борноволокова из города Лесное Свердловской области: « От огня немецких минометов в Кальмиусе кипела вода. И, тем не менее, 7 сентября 1943 года передовые части Советской Армии прорвали немецкую оборону, а к утру следующего дня Донецк был очищен от немецких захватчиков. Повсюду валялись битый обгорелый кирпич, осколки стекла, обрывки проводов. В руинах лежала краса и гордость Донецка Первая линия - улица Артема. На ней уцелело лишь здание гестапо (ныне Донбасс-Палас, - автор) и здание театра оперы и балета». Аналогично выглядели и окраины Донецка и другие населенные пункты области.
Уцелевшие местные жители, в отсутствии работы, не знавшие сытости, осенью-зимой 1943 года еще и замерзали, угольные предприятия были уничтожены, поэтому народ, согревался - чем придется.
Когда среди руин появились советские инженеры, озадаченные восстановлением шахт, то местным от них доставались сострадательные взгляды и тяжелые вздохи. Дело в том, что образованные люди понимали, что указ Государственного Комитета Обороны «О восстановлении шахт Донбасса» отзывавший с фронтов солдат, имеющих опыт подземных работ, тем самым подчеркивавший важность и необходимость восстановления края, не только по причине разрухи, но и по причине отсутствия кадров, выполнить сложно.
Просто-напросто в забой было особо некому возвращаться. Горняки полегли в боях, а те из них, что остались в рабочих поселках были слабы и для работы в шахтах не подходили по возрасту, комиссованные инвалиды не выдерживали нагрузок – у них открывались раны, подростки не годились, женщины панически боялись крыс, обитающих в подземелье. И только девушки из шахтерских семей оказались самыми выносливыми и сильными.
В принципе они проявили себя еще в 1941 году. Так, например, Нюся Наливайко - пробщица шахты «Орджоникидзеуголь» перешла на участок откатки угля, заменив товарища, ушедшего на фронт и «выполняла полторы нормы». Каким образом ей это удавалось, непонятно, особенно, если учесть, что откатчица руками и плечом должна была упираться в груженую углем вагонетку общим весом в 2.6 тонны и рысью гнать ее с напарником по подземным рельсам.
И все же женщину, даже в условиях войны, даже суровое и прагматичное руководство той великой страны, как и руководство местное, никак не воспринимало на работах под землей, а может просто не решалось отправить прекрасную половину человечества в подземный ад.
В общем, после освобождения Донбасса движение «Девушки - в забой!» возникло внезапно и стихийно, не сверху, а снизу, как проявление самого настоящего патриотизма и любви к родине, уверенности, что ее скорейшее экономическое возрождение повлияет на исход войны и приблизит разгром ненавистного врага.
Вся сила - в духе
В результате, хрупкие девчата, такие как дочка горловского шахтера Мария Гришутина, ученица тысячника Михаила Афонина, которой крепить выработку помогал отец-инвалид Семен, учились у мужчин шахтерскому ремеслу, спускались в забой, впоследствии становились знаменитыми.
Десятого декабря 1943 года на слете молодых горнячек Горловки девушки с призывом овладевать щахтерскими профессиями отцов и братьев, громогласно обращались к современницам, а в январе 1944 года на областном слете горнячек Донбасса всенародно дали клятву: «Добывать уголь до конца войны, каждый день выполнять две нормы: за себя и за воюющего или погибшего отца, брата, мужа, любимого».
До войны старожилы утверждали, что рубя «коня» - выполняя норму в рядовую смену, шахтер орудует стальной болванкой и четырмя литрами пота, после освобождения Донбасса условия труда не изменились, так что непонятно каким образом горнячки выполняли по 2, а случалось, и 5, и 7, и 10, и 12 мужских норм за смену. Теперь об этом беспристрастно свидетельствуют хроники тех лет, согласно им шахтерки горловской «шахты №19-20, забойщицы Роза Бурых, Мария Гришутина, Куля Макарова дают по 4-5 мужских норм. Александра Ананьева недавно вырубила 9 норм – 35 тонн угля за смену».
Такой трудовой героизм восхищал современников. Скажем, рабочие челябинского завода после встречи с Марией Гришутиной в январе 1945 года в свободное от работы время изготовили эшелон шахтного оборудования и отправили его в Донбасс, а бойцы на фронте поклялись «Бить проклятого врага так, как крушит угольный пласт Мария Гришутина». В общем, не случайно бойцы действующей армии в мае 1945-го били по рейстагу из танка, к которому был прикреплен портрет их землячки девушки-горнячки.
Результаты трудовой деятельности женщин на шахтах действительно были поразительными, уже через полгода после освобождения на Донбассе заработали 17 основных и 460 мелких шахт, которые в сутки давали 31 тысячу тонн топлива, а показатели производительности труда женщин сначала достигли, а после Победы превзошли предвоенные достижения мужчин-стахановцев. В итоге в 1945 году Донбасс давал уже целых 30 миллионов тонн угля, больше всех угольных бассейнов страны.
Только логикой объяснить такие достижения не возможно, поэтому не удивительно, что сегодняшние убеленные сединами горняки по этому поводу говорят: тайна достижений кроется в особой силе духа, патриотическом порыве и чистоте помыслов.
Однако, какими бы ни были помыслы и сила духа, у подземной стихии беспощадный нрав, а потому женщины погибали точно также, как и мужчины. Сколько тогда на шахтах было травм и смертей архивы молчат, но известно, что уголек доставался дорогой ценой, например, та же Мария Гришутина седой стала в 22 года, после того, как трое суток вместе со своей бригадой просидела под завалом.
Не легкой была жизнь и у другой легендарной горнячки Марии Федоровны Королевой.
Шахтерская мать Евдокия Федоровна
Задолго до Великой Отечественной войны пришла Королева на шахту, пришла потому, что в шахте погиб отец, а среди оставшихся семерых детей она старшая.
В ту пору уголь добытый обушком вывозили саночники и девочку взяли перебирать породу, потом она работала и плитовой, и стволовой, и лебедчицей, и породу выбирала, и техничкой в бане была, и была первой в мире женщиной, рубившей уголь. Это было в гражданскую войну. Рубила уголь Королева и в Великую Отечественную, в Караганде, в эвакуации, в возрасте 63 лет. Говорят, знаменитый Алексей Стаханов изумился ее мастерству.
После освобождения Донбасса Евдокия Федоровна, вернулась в Донецк на родную Рутченковку, шахта 17-17 бис еще была не пущена и работать в забоях было нечем. Вот и ходила Королева с женщинами по дворам. Они раскрывали сараи, смотрели, что может пригодиться. Собрали лопаты, шахтерские лампочки, обушки, кайла, запчасти всякие … А на шахте работали по пояс в воде, но уголек давали, да еще после смены на стройки шли. Ведь все было разрушено, и все отстраивалось собственными руками. В этом была весомая заслуга Королевой, поэтому, когда горняки прошли на семнадцатой первый бремсберг— большую выработку, — то назвали его в честь Евдокии Федоровны Королевским. Он так и значится на горных картах.
Была Королева депутатом городского и областного Советов, членом парткома, шахткома.
Последний раз Евдокия Федоровна, которую, притом, что у нее было трое собственных детей, называли шахтерской матерью, получала депутатский мандат в райсовете, когда исполнилось ей 84 года. Получила и сказала: «Хватит сыны. Молодых выбирайте, а я и так поактивничаю» и активничала, на пенсию оформилась в 87 лет, имея за плечами 75 лет шахтерского стажа.
Говорят, эта знатная шахтерка дружила с Никитой Хрущевым еще во времена его бурной революционной молодости и даже спасла жизнь и ему, и его товарищу, спрятала их от белогвардейцев, вывела в степь подземными ходами. Говорят, с глазу на глаз Королиха могла прямо сказать Хрущеву: «Никитка, ты там сидишь в Кремле, а тут рабочие без спецовок и сапог!» И Хрущев не роптал, помогал. А вообще Королиха всегда с честью справлялась с «общественной нагрузкой» по выбиванию в столицах всего необходимого для родного края.
Свой столетний юбилей Евдокия Федоровна Королева встречала сидя в президиуме в своей обычной серой шальке, в форменном шахтерском кителе, а на груди - орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», знак «Шахтерская слава» .
Прожила Евдокия Федоровна 102 года, умерла по дороге на шахту и была похоронена на кладбище шахты № 29. На ее могиле до этой войны стоял памятник, изготовленный за средства благотворительного фонда «Шахтерская память». Сохранился ли этот памятник, и в каком он находиться состоянии, сказать сложно, местные жители из-за обстрелов настойчиво рекомендуют воздержаться сейчас от посещения кладбища шахты №29.
А где же справедливость?
Двести тысяч женщин, составляющих до 80% трудовых коллективов шахт, держали на своих плечах углепром более 10 лет, по протяженности две великие войны с лихвой, а на поверхность они стали выходить в 1957 году благодаря постановлению Совмина СССР и ВЦСПС «О мерах по замене жен¬ского труда на подземных работах в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений».
В результате, в течение 1958 года на поверхность было выведено 40590 человек, а на 1 января 1960 года под землей еще оставалось работать 50885 женщин. Окончательно с подземных работ женщины ушли только в 1966 году.
Кстати, и после этого они сохранили свое солидное влияние на угольные производства. Так, опытные начальники, если предприятие тормозило, обращались за содействием к женщинам и собирали на совещания жен горняков. Говорят, мера эта действовала безотказно.
В общем, не случайно относительно недавно, за несколько лет до этой войны, один из довоенных угольных руководителей региона Леонид Владимирович Байсаров, вероятно, не понаслышке знающий о женских трудовых рекордах, о старательности и ответственности горнячек, поднял на страницах областной газеты «Жизнь» вопрос об использовании женского труда на подземных работах при современном техническом оснащении шахт в условиях нехватки вспомогательных рабочих в отрасли. Обсуждение этого вопроса тогда приняло риторический характер, и свелось к дискуссиям, что отправлять женщин под землю уж как-то совсем не по-мужски.
Не по-мужски будет отправлять женщин и на восстановление шахт после этой войны, поэтому уже теперь надо решать, каким же образом будут восстанавливатся угольные предприятия в мирное время, какими силами, и за какой счет.
А руководствуюсь аспектами исторической справедливости, не грех было бы задуматься о том, что памятника спасительницам Донбасса, который еще в недавнее мирное время собирались установить благодарные земляки, а также и ныне живущие на донецкой земле дети и внуки горнячек, пока нет. В Донецке у здания Ворошиловского исполкома стоит лишь памятный знак, свидетельствующий о таких намерениях.
На территории в бывшей Донецкой области нет, к сожалению, ни одной улицы, которая была бы названа в честь горнячек. В этой связи при строительстве новых улиц и проспектов, которые, несомненно, появятся в мирное время, было бы логично, хоть одной присвоить их славное имя.
Ирина Попова
Материалы в рубрике «Интересно» публикуются для ознакомления, и мнения их авторов, либо приводимые высказывания, не всегда совпадают с позицией редакции сайта «Патриотические силы Донбасса».
Поделиться в соцсетях:
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Новости